Этот разговор я должен предварить следующим предупреждением. Если в отношении Тени я только излагал основную доктрину Юнга, обогащая примерами из личной практики, то в случае Анимы и Анимуса в отдельных вопросах я вынужден даже вступить в некоторую полемику с Юнгом в отношении отдельных нюансов понимания природы данного архетипа. Читатель вправе согласиться или отвергнуть мои дополнения, со своей же стороны я должен предупредить о наличии в этих рассуждениях некоего субъективного опыта, который расходится в некоторых деталях с классической школой.
Разговор о сизигийных архетипах (сизигия — парное соединение — относится к Аниме и Анимусу) следует начать с рассмотрения смысла самих названий. Дело в том, что "Анима" по-латыни означает "Душа", а "Анимус" — "Дух". Это знание, данное без уточнений, может не столько упростить, сколько усложнить для читателя понимание концепции.
Сама природа языка заключается в том, что под одним и тем же словом разные люди могут понимать разные концепции. Более того, зачастую по мере смены культурных моделей одно и то же слово начинает менять свой смысловой контекст и обозначать нечто отличное от его изначального послания.
Для современного человека слово "Душа" может звучать, с одной стороны, с ноткой избыточной сентиментальности. Душа — нечто непорочное, чистое, хрупкое и идеалистическое — не в философском, а в бытовом смысле. С другой стороны, говоря о душе в религиозном контексте, мы можем ставить некий гипотетический знак равенства между нашим "Я" и Душой, см. религиозная концепция "спасения души" или "бессмертия души".
Для того чтобы понять концепцию Анимы и почему Анима — это синоним слова "Душа", я хочу обратиться к двум достаточно древним литературным источникам. Во-первых, это анонимный древнеегипетский текст "Разговор разочарованного со своей душой". Во-вторых, средневековый текст "Разговор Гуго Викторского со своей душой". Оба эти текста прекрасно и подробно разобраны ученицей Юнга Барбарой Ханной в работе "Встреча с душой", так что в контексте нашего разговора я обращу внимание лишь на одну немаловажную деталь: и в древнеегипетском, и в средневековом тексте Душа представляется не только не тождественной Эго, Лирическому Герою, "Я"-идентичности, но является его собеседником и очень во многом оппонентом. Таким образом, самое древнее понимание души подразумевает ее понимание как своего рода "радикально иного в нас", причем ее инаковость не меньше, а даже больше, чем в случае Тени. Стоит также вспомнить, что во многих древних религиозных картинах — от древнеегипетской до древнекитайской — человек может обладать даже не одной, а несколькими душами. Для архаичного человека главным страхом является состояние "потери души", то есть когда Эго утрачивает живую воду, энергию бессознательного и погружается в состояние невольного отупения и апатии.
Вернемся к уже процитированной ранее фразе Юнга, приводимой нами в разговоре про Тень: "Если Тень — это задача для подмастерья, Анима — задача для мастера". В полной мере оценив, насколько задача для подмастерья далека от легкости ее решения, мы можем представить, до какой же степени сложности должна достигать проблема Анимы-Анимуса.
Но почему? Этому есть несколько причин. Во-первых, как метко подмечает Юнг, в нашей культуре есть отдельные, хотя очень фрагментарные, элементы, позволяющие осознать Тень. Как иронично пишет Юнг: "Если кто-то будет захвачен идеей собственного морального совершенства, его быстро вернут на землю жена или налоговый инспектор". То есть Тень как проблема может быть осознана хотя бы отчасти — например, Апостол Павел писал о "жале в плоть", которое не оставляло его, несмотря на его обращение, а классическая литература содержит много примеров, описывающих конфликт с Тенью, падение в теневые идентичности. Конечно, эти описания по большей мере даны в формате "этики совершенства", а не "этики целостности", однако хотя бы какие-то механизмы, позволяющие осознать возможность реальности Тени, у нас существуют.
Однако совсем по-другому обстоит дело с Анимой. Даже в самых высоких классических произведениях Анима (в ее позитивном или негативном аспекте) предстает в образе "Другой женщины", "Внешнего", "Спроецированного" элемента. Сама идея осознать себя как носителя женского начала покажется большинству мужчин куда более неприемлемой и невозможной, нежели идея осознать наличие у себя теневых пороков, что неприятно, но понятно.
Во-вторых, Тень и Анима отличаются тем, что Тень по большей мере относится к пространству личного бессознательного и, как уже было сказано, формируется одновременно с сознательной идентичностью от противного. Поэтому, кстати, в области осознания Тени могут быть эффективны самые разные и совершенно не юнгианские психологические школы — от психоанализа Фрейда и индивидуальной психологии Адлера до современных психологических школ. Как содержимое личного бессознательного, Тень вызывает мучительный этический кризис и страх уничтожения старой идентичности, однако это гораздо меньше, нежели чистый, священный ужас, который вызывает архетип в его манифестации.
В-третьих, если Тень является последним содержимым психики, к которому может быть применена линейная логика — "вот это благо, вот это помеха, Тень точно такая, а не такая", — то в отношении Анимы мы сталкиваемся с чем-то вроде квантовой спутанности. Анима очень часто предстает перед сознанием одновременно во взаимоисключающих аспектах. Она одновременно — искусительница и искупительница, проводник и обманщик, ведущая к свободе и порабощающая иллюзией. Осмыслить подобный антиномизм просто физически невозможно для сознания, привыкшего к аристотелевой логике, чей принцип "Третьего не дано".
Первое непосредственное столкновение с Анимой-Анимусом оказывается реально возможным, когда по крайней мере часть проблемы Тени решена и хотя бы в некоторых аспектах была задействована трансцендентная функция, соединившая бинеры Эго и Тени. Опыт трансцендентной функции как бы открывает для обновленного и дополненного Эго саму возможность взаимодействия с Анимой, однако интенсивность этого взаимодействия так велика, что ничто не гарантирует его успешный исход.
В психике обычного человека Анима и Анимус проявляются, однако не непосредственно, а опосредованно, по двум возможным сценариям.
Во-первых, это проекция. Проекция Анимы-Анимуса нам хорошо известна — это феномен "влюбленности с первого взгляда". Причем человек даже может рационально понимать несоответствие реального объекта проекции самой проекции, но при этом не в силах ничего с собой сделать — архетипическое содержание столь сильно и заряжено, что без труда полностью "одерживает" сознание. Впрочем, я бы не расценивал этот феномен как что-то однозначно негативное — по большому счету, даже опыт безответной влюбленности зачастую оказывается бесценным для индивидуирующегося Эго как столкновение с "радикально иным".
Второй возможный сценарий опосредованного действия Анимы — это прямая захваченность. Причем чем более односторонне маскулинной является установка сознания конкретного мужчины, тем более иррациональными будут проявления Анимы. Можно без труда вспомнить, как мужчины-мачо проявляют почти истеричную обидчивость, капризность, как им кажется, что все вокруг хотят их ранить и уязвить. Хорошей иллюстрацией такой "скрытой хрупкости" является блатной фольклор. Нет субкультуры, где женское больше подвергается вытеснению, чем тюремная культура, но при этом в своих песнях уголовники чаще всего описывают себя как "жертву", эдакого "мальчишечка, попавший в плохую компанию, покатившийся по наклонной, преданный плохой женщиной и подставленный плохим окружением". Как и Тень, Теневая Анима представляет собой сложнейший вызов для всякого, кто желает ясно отдавать себе отчет в своих мотивах и действиях.
В случае женщины механизм тот же самый, однако в случае захваченности Анимусом женщина становится догматичной, фанатичной и костной, так что ее естественная природа "эротического сознания" (здесь нужно уточнить, что под эротическим сознанием мы имеем в виду не биологическую сексуальность, а установку сознания, настроенную на установление любых возможных связей, будь то любовные, дружеские или родственные) оказывается полностью утрачена.
Если в описании Тени юнгианцы фокусируются на том, что Тень появляется примерно с трех-пяти лет, когда происходит первая социализация, то Анима-Анимус как квинтэссенция качеств иного пола появляется чуть ли не в утробе, когда определяется пол ребенка, и "меньшинство" генов уходит в бессознательное задолго до появления какого-либо "Я".
Таким образом, Анима-Анимус — это фигуры, которые стоят на границе между личным бессознательным и бесконечным пространством архетипического или коллективного бессознательного, которое нам полезно будет называть "внутренней бесконечностью". Вот почему Анима в ее высоком, благом аспекте как правило представляется проводником в мир вечных архетипов (пример — Беатриче из "Божественной комедии" Данте, "Гретхен-Елена-Мария-София" в трагедии Гёте "Фауст", а также зороастрийская мифологема, согласно которой умерший встречает свою душу на мосту Чинват, и, если он жил благую жизнь, его душа, или Дайяна, предстает ему прекрасной женщиной, которая ведет его в обитель блаженства, а если он был грешником, он видит уродливую старуху, сталкивающую его с моста).
По мере развития образ Анимы (то же касается и Анимуса) начинает "обрастать" и "кристаллизироваться" вокруг образов значимых женщин (мужчин). Мать часто оттягивает на себя часть проекции Анимы (отсюда фрейдистский Эдипов комплекс и тенденция отдельных мужчин выбирать женщин, похожих на мать), туда же идут образы тети, воспитательницы, соседской девочки и т.д. То же самое относится и к Анимусу. В норме Анима заявляет о себе в полную силу в подростковом возрасте как "сила, выталкивающая из семейного рая", и связывается с началом полноценного сексуального созревания, однако бывает и так, что этот архетип пробуждается значительно раньше.
Например, мой первый детский образ Анимы проявился практически сразу, как я себя осознал. Анима спроецировалась на соседскую девочку, о "спасении которой" я фантазировал каждый вечер, начиная с четырех лет. Позднее, еще в раннем подростковом возрасте, гонимый странной фантазией, что "где-то далеко я должен познакомиться с какой-то особой девочкой", я с 10 лет убегал из дома и некоторое время бродяжничал. Мой случай в этом отношении скорей исключение — раннее пробуждение образа Анимы здесь связано с тем, что в пространстве семейного дома все было настолько плохо, что бессознательное вывело компенсацию, с самого начала выталкивающую меня: "главное прочь, а там все равно".
Развитие Анимы — психология и мифология.
Отдельно следует сказать о двух полярных женских архетипах. На идею двух женских архетипов с разных сторон выходили разные авторы. Карл Юнг говорит об Архетипе Анимы и Архетипе Матери. Эрих Нойманн говорит о трансформативном и элементальном женском архетипе. Юлиус Эвола в "Метафизике пола" пишет о двух типах женственности — афродическом и деметрическом. Впрочем, проблема последнего в том, что он проецирует свои представления о женском на реальных женщин, что, надо сказать, не прибавляет ему очков в области понимания реальных женщин, однако дает нам полную картину Анимы великого итальянца.
Юнг оказался гораздо более честен, осторожен и сдержан, нежели Эвола, не раз предупреждая, что на самом деле мужчина вообще ничего не способен сказать о внутреннем мире женщины и ее психике, поскольку все знания мужчины о женщине всецело основаны на его проекции Анимы. То же самое, разумеется, относится и к женщине. Мужчина (женщина) может достичь высокого уровня развития архетипа Анимы (Анимуса), так что внешние взаимодействия с противоположным полом могут быть более зрелыми, осознанными и равными, однако даже в этом случае никто не может в полной мере поставить себя на место другого пола — сам принцип бытия другого пола, согласно Юнгу, остается принципиально непостижимым. Это спорное утверждение, если мы будем говорить о самых высоких уровнях индивидуации, где достигается андрогинность (см. далее), однако это совершенно верно в том смысле, что реальной причиной и основой взаимодействия полов является перенос Анимы (Анимуса) и проекция своих сизигийных компонентов на внешний объект.
Задачей индивидуации является постепенная дифференциация этих самых архетипов (в случае женщины — Анимуса и Отца).
Следует обратить внимание, что абсолютное большинство сказочных и мифологических сюжетов вращается вокруг "спасения Анимы", будь то спасение Анимы от Дракона, Старого Царя или некоей колдовской чары, заставляющей ее действовать разрушительно. Сама универсальность этого мотива, который распространен практически во всех культурах без исключения, ясно свидетельствует о том, что речь идет о неком ключевом архетипическом сюжете, связанном с индивидуацией. Негативные фигуры могут выступать прежде всего как образ Дракона (пожирающая мать) или Старый Царь (отец-деспот — доминантное коллективное сознание, не позволяющее Аниме проявиться). Иногда сама фигура Анимы-Принцессы оказывается "заколдована" либо злым колдуном, либо злой колдуньей (то есть теневой отцовской или материнской фигурой).
Но о чем же нам говорит этот архетипический конфликт? Архетипические отцовские и материнские фигуры по определению стремятся удержать развивающееся Эго в его статус-кво, "всего лишь сыне-дочери своей матери-отца". Природа власти этих фигур несколько отлична: теневая материнская фигура осуществляет власть через слепой инстинкт, ослепление животным началом (вот почему злые колдуньи в сказках часто превращают героев в животных, что символизирует утрату человеческого статуса-кво, то есть осознанности), в то время как теневая отцовская фигура представляет устаревший, вчерашний дух времени, старого короля, не способного изменяться вместе с меняющимся миром. В любом случае, именно освобождение Анимы-Анимуса от их власти является символом индивидуации и обретения реального, а не потенциального индивидуального сознания.
Карл Юнг выводит четыре стадии развития Анимы, и, должен признаться, эта система классификаций имеет некоторые слабые места. Юнг выделяет четыре этапа развития Анимы, которые, следуя за "Фаустом", называет именами: Ева, Елена, Мария, София.
На самом первом уровне, уровне "Евы", Анима вообще неотделима от материнского архетипа и полностью с ним слита. Ева (правомерность выбора имен мы также оставим на совести Юнга — в конце концов, можно сказать, что мифологическая библейская Ева была как раз той, кто принесла Познание и Свободу; с моей точки зрения, эту стадию правильней было бы назвать Деметрой) представляет собой уровень Анимы, когда женское начало полностью сведено к его биологической функции. Причем на этом уровне Ева — это даже не сексуальный (эротизм, сексуальность появляется на следующем этапе), а кормящий объект. На этом уровне (где находятся большинство мужчин) Анима и Мать вообще не "расцеплены", правит бал некий Эдипов комплекс, где женщина выбирается по образу и подобию матери, а роль женщины сводится к источнику удовлетворения и кормления. Классическая патриархальная доминанта типа "место женщины на кухне" (обратите внимание на тонкость психологии — даже не в постели, до полноценного эротического опыта здесь тоже еще не доросли) наглядно иллюстрирует первый уровень развития Анимы.
Второй уровень развития Анимы Юнг называет Еленой, по аналогии с Еленой Троянской. На этой ступени развития в восприятии женского у мужчины появляется идея, во-первых, эротического (не просто сброс сексуального напряжения, а именно утончение эротического наслаждения), а во-вторых, эстетического измерения. Под эстетическим измерением мы имеем в виду идеал Анимы-Женщины-Музы, в котором женский, пока еще бессловесный образ становится источником вдохновения и утончения. Юнг много предупреждает об опасности теневого аспекта второй стадии Анимы, но с нашей точки зрения эта тревога во многом обусловлена культурным контекстом работы самого Юнга.
Третий уровень развития Анимы Юнг определяет как Марию. Под Марией Юнг разумеет образ Анимы как "духовной сестры" или "спасительницы", как часто предстает Мадонна в ранних средневековых сказаниях. Мадонна в средневековой мистике действительно часто выступает как духовная сестра, разъясняет, помогает в сражениях, вдохновляет. Этот аспект архетипа для понимания русского человека сложен, потому что околосимвольное поле Богоматери в России существенно отличается от европейского. Поэтому допустимым уточнением будет сказать, что третий уровень Анимы также соответствует греческой Афине, которая выступает как помощница и наперсница практически всех героев, от Одиссея до Персея.
Можно сказать, что достижение третьего уровня Анимы соответствует тому уровню развития мужского сознания, когда мужчина способен воспринимать Аниму (а значит — реальную женщину) как равную и находиться в дружеских и братских отношениях, не сводя все только к половому вопросу. Эрих Нойманн отдельно ставит вопрос об архетипе "Духовной сестры" и даже пишет, что "наличие или отсутствие духовной сестры у конкретного героя всецело определяет, будет ли его путь успешен". Наличие духовной сестры, согласно Нойманну, — первое и важнейшее условие становления индивидуального сознания.
Я бы сказал, что наличие или отсутствие развития Анимы третьего уровня (Мария-Афина) можно определить, задав конкретный вопрос: "Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?" Пользователь интернета мог не раз наблюдать форумные баталии на эту тему с приведением множества примеров из жизни с разных сторон. Смысл и острота этих дискуссий определяются исключительно уровнем развития мужской Анимы — до тех пор, пока Анима не достигла третьей ступени, не только дружба, но вообще какое-либо равное и осознанное взаимодействие в принципе невозможно и будет замыкаться проекцией.
Четвертая стадия развития Анимы называется Софией, по аналогии с Софией Премудростью как женской ипостасью Бога. "Вечная женственность тянет нас ввысь" — последние слова великой трагедии Гёте "Фауст" наглядно представляют нам четвертую стадию. Другим примером четвертой стадии является вся алхимическая философия с вечным поиском языка Anima Mundi (Душа мира) и готовностью учиться у души мира, с тем чтобы в конечном счете соединиться с ней в экстазе. Большинство мистических традиций, таких как христианский гностицизм, тантризм, Телема, представляют образы четвертой стадии Анимы, Анимы как Богини с большой буквы, однако мало принять какую-либо мистическую философию — нужен многолетний путь восхождения к переживанию этой стадии.
А как же у женщины? В отношении Анимуса мы сталкиваемся сразу с двумя проблемами. Во-первых, мифология в основном создавалась мужчинами, и реальных моделей женской индивидуации в сказках и мифах встречается раз-два и обчелся. Более того, ловушкой является и то, что часто эти модели (вроде Золушки или Спящей красавицы) также писались мужчинами согласно их представлению о том, какой должна быть женщина и каков должен быть ее путь. Даже наиболее яркий и чистый пример женской индивидуации — "Амур и Психея" — тоже создавался мужчиной, а значит, больше применим к мужской Аниме, чем к конкретной женщине и ее Анимусу.
Во-вторых, как мужчина, я едва ли могу здесь сказать что-то, исходя из своего опыта, ибо вспомним слова Юнга о невозможности "объективного понимания". К сожалению, зачастую то, что Юнг писал про Анимус, можно тоже отнести к проективному изложению. Если Анима описывается Юнгом весьма равновесно, с позитивными и негативными аспектами, то в описании Анимуса Юнг и его ближайшие ученики (и, к сожалению, ученицы) фиксируются на исключительно негативных аспектах, что повлияло и на его учениц. Поэтому, несмотря на прекрасные работы, например, ученицы Юнга Барбары Ханны "Анимус" и "Анимус и Эрос", несмотря на прекрасную, но уже исторически неактуальную работу Эммы Юнг "Анимус", история все еще ждет гениальной женщины, которая сможет описать Анимус во всей его многомерности, которая сможет оттолкнуться как от патриархального обесценивания, так и от феминистической односторонности.
В уже упомянутых работах Барбары Ханны также есть четырехчастная классификация Анимуса. На первом, примитивном уровне Анимус предстает как Фаллос — то есть инструмент для зачатия потомства, себя же женщина осмысляет исключительно из миссии рождать. Анимус-Фаллос предельно анонимен и безличен, он — исключительно инструмент для оплодотворения. Мужчина и Анимус принадлежат к другой вселенной, где у них есть одна роль — принимать ее опеку.
Вторую стадию Анимуса Барбара Ханна определяет как "Муж". Стадия "Муж" означает, что измерение Анимуса переносится из биологического в социальное. Ценность мужчины определяется той персоной, той социальной ролью, которой он обладает, точно так же — исходя из социальных шаблонов — на этом этапе женщина оценивает и себя.
Третий уровень Анимуса — Любовник — подразумевает наличие неких индивидуальных качеств и подлинно индивидуального отношения. Очень легко перепутать эту третью стадию с просто ослеплением проекцией "сияющего фаллоса".
Наконец, четвертая стадия — Гермес — подразумевает Анимуса как проводника к Самости и, как и в случае с Софией, мистическое измерение.
Интересно, что если абсолютное большинство мужчин печально находятся на первой стадии, то абсолютное большинство женщин находятся все же на второй. Достижение третьего и четвертого уровня одинаково редко встречается и среди мужчин, и среди женщин.
Итак, мы подробно изложили классификацию развития Анимы и Анимуса в юнгианской психологии. Тем не менее, при внешней логичности и очевидности этой классификации к ней можно предъявить целый ряд возражений.
Возражение первое. Сведение всего многообразия Анимы к четырем формам может приводить к опасному психологическому редукционизму. Опираясь на "Фауста" с одной стороны и свой опыт с другой, Юнг выводит четыре уровня Анимы, четыре женских архетипа. Но если мы обратимся, к примеру, к любой политеистической мифологии, мы обнаружим множество различных богинь (естественно связанных с Анимой для мужчины и ресурсом идентичности для женщины), и в каждой отдельно взятой мифологии богинь будет больше, чем четыре. Конечно, при желании мы можем отнести Геру, Гестию и Деметру к уровню "Ева", Афродиту — к уровню "Елена", Афину, Артемиду — к "Мария". Но вот, например, с Гекатой в ее изначальной многомерности сразу возникнут некоторые трудности. В тантрической традиции у Великой Шакти не четыре, а десять махавидий, и эти десять имеют совершенно другие грани, однако очевидно, что и они связаны с фигурой Анимы. Кроме того, если мы возьмем женские архетипические фигуры из разных мифологий, даже если они отвечают за одно и то же, при более внимательном мифологическом анализе мы обнаружим, что вавилонская Иштар, греческая Афродита, римская Венера и скандинавская Фрейя имеют свои индивидуальные черты и качества, во многом связанные с спецификой гендерных отношений в конкретной культуре. Таким образом, сводя многообразие Анимы к четырем формам-функциям, не обедняем ли мы многообразие внутренней бесконечности, которое может явить Вечная Шакти?
В начале лекции я предупреждал, что буду не только излагать теорию Юнга, но и обозначать несогласие с отдельными моментами. Карл Юнг, говоря об Аниме, часто говорит о том, что, несмотря на мощную нуминозную силу, фигура Анимы предельно проста, примитивна и элементальна, в отличие от сложной фигуры индивидуального Эго. Мой личный опыт общения с учениками, друзьями, соратниками, а также личный опыт взаимодействия с Анимой не позволяет мне согласиться с Юнгом. Элементарность и стандартность наблюдаемых Юнгом "Аним" обусловлены только тем, что их носители, строго говоря, тоже не блистали уровнем индивидуальности. Когда же мы говорим о людях, достигших реальной реализации индивидуальной природы, их Анима-Анимус в той же степени индивидуальны и неповторимы — и это обусловлено далеко не только личным опытом, но и спецификой архетипов.
Наконец, третье возражение к стадиям Анимы-Анимуса — сугубо опытное. За всю мою жизнь, за все мое общение с десятками и сотнями людей, мне не приходилось наблюдать, чтобы, к примеру, в результате работы кому-то удалось перейти от первого уровня Анимы к четвертому. Обычно, когда речь идет о четвертом или третьем уровне Анимы, она присутствует практически с самого начала. Мой личный опыт говорит о том, что еще в бытность подростком в моих снах явно проявлялась именно "третья" стадия — помогающая, обучающая, старшая соратница, которую в системе Юнга мы бы назвали Мадонной, но я предпочитаю то имя, под которым она сама представилась в моей душе. С другой стороны, бедолаги, находящиеся на первом уровне Анимы, обычно так на нем и остаются. Самое большое и самое удачное, что мне удавалось наблюдать, — это движение с одного уровня на другой. Иными словами, мужчина, находящийся на уровне Евы, если ему очень повезет, может оказаться на уровне Елены, но третий уровень будет скорей всего закрыт. Я не исключаю, что в мире встречаются исключения, однако выводить из случайных флуктуаций некий общий алгоритм развития я бы не рискнул. Юнга можно понять, едва ли позиция "каким ты был, таким ты и помрешь" помогла бы распространению его психологии, однако, если мы хотим быть честными, то надо иметь дело с фактами, а не с мечтами. Факты же таковы, что даже сам Юнг брал во внутренний анализ лишь тех немногих, у кого с самого начала могли манифестироваться некие бессознательные символы целостности, которым просто надо помочь проявиться.
Более того, следующее возражение состоит в том, что из предложенной системы может быть сделан вывод, будто постепенная потеря Анимой "земных" и "эротических" качеств будет восприниматься как процесс развития, так что в качестве идеала будет воспринята София как чисто духовная идея, вообще лишенная эроса (вот почему в четвертую стадию важно добавлять не только гностическую Софию, но и герметическую Анима Мунди, телемитскую Нуит или тантрическую Шакти).
Впрочем, последнее возражение может быть снято, если рассмотреть эту классификацию под иным углом, предположив, что при переходе на следующий уровень не происходит потеря предыдущего. То есть Ева — это только Ева, Елена — уже Елена и Ева, Мария — это уже Ева, Елена и Мария, а София включает в себя все четыре аспекта. Таким образом, ценность женщины как матери или любовницы не исчезает по достижению, скажем, третьей стадии, а исчезает исключительно злосчастное "только".
Персонифицированная и неперсонифицированная Анима
Персонификация, то есть наделение персональной формой, олицетворение, — это одна из базовых функций психики, обеспечивающая возможность соприкосновения малого "я", или Эго, с внутренней бесконечностью объективного психического.
Наглядным примером персонификации являются построения гностической космологии, в которых различные абстрактные категории, например "церковь", "воля", "стремление" и даже "ошибка", наделяются личностной категорией и выступают в качестве активных субъектов действия. В каббале такими персонификациями являются сфироты Древа Жизни — Сияние, Красота, Суровость, Милосердие.
Рассвет персонификации приходится на ренессансную культуру, где все без исключения небесные тела, а также алхимические компоненты персонифицированы. На алхимических гравюрах мы часто находим человеческие фигуры со знаками тех или иных металлов или планет или изображение Солнца и Луны с человеческим лицом — это, пожалуй, самое наглядное свидетельство механизма персонификации.
В результате триумфа сомнительных ценностей эпохи Просвещения, которая сначала обрушилась на механизм персонификации с христианских позиций как на опасную магическую ересь, а затем, на смену религиозной установке пришел все более выхолащивающий душу материализм, персонификация также осталась стигматизирована и вытеснена на обочину культуры.
От всей нуминозной мощи персонифицированных образов души остались лишь жалкие аллегории и метафоры, не выражающие нуминозного блеска.
Джеймс Хиллман в работе "Пересмотр психологии" обрушивается на современное состояние психологии как на состояние рационалистической кастрации, в котором сама возможность персонификации отнесена в сферу патологического. Навык персонификации — это один из первых навыков души, который следует восстановить на самых первых этапах индивидуации, что сделать не так-то просто. Если вспомнить притчу Платона "Пещера", то можно сказать, что способность персонифицировать — это способность видеть психические объекты вне психологической проекции, в непосредственном измерении души, однако сама возможность обнаружения иных центров субъектности, кроме Эго, сталкивается с огромным сопротивлением.
Изучая описание архетипов Анимы (Анимуса), данные Юнгом в разных работах, порой возникает ощущение, что он описывает несколько разные феномены. В одном случае Анима выступает предельно личностной и персонифицированной, Юнг говорит о ней как о конкретной фигуре, представляющей "Госпожу Душу", с которой следует наладить контакт и найти взаимопонимание. Собственный опыт Юнга, будь то видения из "Красной книги" или описания опыта конфронтации с бессознательным в автобиографии, знакомят нас прежде всего с персонифицированным проявлением Анимы.
Однако в других работах у Юнга Анима появляется как нечто предельно неопределенное, проявляющееся не только в женском образе, но и в ассоциативном потоке безличных символов, начиная от предметов посуды, природных явлений (пещера, озеро, океан), определенных священных животных и т.д. И это неперсонифицированное "нечто" также относится к полю Анимы как "женская грань души".
Более того, зачастую Анима может выступать в крайней степени неперсонифицированной форме как некий эмоционально-энергетический фон. Здесь нам полезно провести ассоциативные параллели между словом "Анима" (душа) и "анимизм" (одушевление). Иными словами, архетип Анимы в какой-то степени выражает саму идею жизни и оживленности. Всякий раз, когда некий предмет начинает для нас обладать особой притягательностью, наделяться особой жизненной ценностью, психической энергией, можно сказать, что Анима наполнила этот предмет своей маной (психическая энергия). Таким образом, сильная Анима выражается в способности к максимально интенсивному, тотальному и неограниченному проживанию всех состояний и эмоций, радикальному "броску в жизнь" без права оглянуться назад. Иными словами, именно Анима оказывается в наибольшей степени той силой, которая связана с суверенностью, то есть максимально интенсивной жизнью.
Интенсивность, одушевление, энергия. Все эти слова с разных сторон пытаются описать различные грани неперсонифицированной Анимы, "анимальной реальности психэ". Если обратиться к сакральным традициям, мы можем обнаружить, что очень часто первичная божественная пара, представляющая изначальную архетипическую сизигию "энергия-смысл", определяет энергетический компонент женскому началу. Так, Шакти представляет динамический, танцующий и вечно меняющийся аспект самого бытия, в то время как Шива — это неизменная ось смысла. С энергетическим аспектом божественного бытия отождествляются София и Шехина в гностицизме и каббале.
Однако, помимо энергетичности, важным аспектом Анимы является категория эроса как силы, связующей разделенное. В различных работах Карл Густав Юнг приводил небезынтересную схему, которую называл "Брачный квартерион", где правому верхнему углу соответствовало мужское Эго, левому верхнему — женское Эго, правому нижнему — Анима, а левому нижнему — Анимус. Квадрат пересекают две линии, образующие косой крест: линия от угла Эго мужчины к Анимусу женщины и линия от Эго женщины к Аниме мужчины.
Хотя, как и любая схема, это всего лишь карта, которая связана с территорией лишь по аналогии (в конце концов, реальность внутренней бесконечности десятимерна, а любая схема, какую мы можем нарисовать, существует на плоскости), эта схема может помочь нам прояснить некоторые важные свойства природы сизигии, прекрасно описывающие отношения — как интерперсональные отношения, так и внутренний динамизм, который приносят интерперсональным отношениям компоненты сизигии.
Верхняя линия наиболее очевидна и символизирует сознательные интерперсональные трансакции. Две вертикальные линии квадрата представляют пространство непосредственного взаимодействия субъекта и его сизигийного двойника. Каковы эти линии в конкретном случае? Есть ли между Эго и Анимой (Эго и Анимусом) какие-то препятствия, искажения, какие призмы стоят на этих вертикальных путях, как Анима-Анимус манифестируют себя в конкретном индивиде?
Гораздо более загадочны перекрещенные линии, представляющие собой сигналы, зачастую скрытые от сознания. Один из таких сигналов-стрел идет от Анимы к Эго женщины, другой — от Анимуса к Эго мужчины. Эти сигналы-линии в абсолютном большинстве случаев не распознаются и создают пространство крайней неопределенности и двусмысленности. Однако именно эти линии и обеспечивают реальные эротические трансакции.
Но самой загадочной является нижняя перекладина квадрата — Анима-Анимус. Если перекрещенные линии могут быть осознаны (чаще ретроспективно), нижняя линия всегда остается всецело в бессознательном. Однако на самом деле именно эта линия и является "несущей" конструкцией брачного квартериона. Можно сказать, что если Анима-Анимус изначально и задолго до решения сознания (а порой и задолго до знакомства) не "согласованы", никакое взаимодействие невозможно.
Здесь же следует впервые сказать о феномене синхроничности, который, как правило, связан с Анимой (Анимусом) в их высших модальностях, которые Ремо Рот — далекий ученик Юнга — называл "Эрос Самости" и "Логос Самости". Феномен синхроничности, где события оказываются наделены невероятной связностью смыслов, детерминирован именно той или иной формой манифестаций Анимы.
Если в отношении Самости Мария-Луиза фон Франц уже выводит возможность персонифицированной и неперсонифицированной манифестации Самости, то мы убеждены, что то же самое вполне корректно применить и к Аниме. С одной стороны, сизигия может манифестироваться в чрезвычайно эмоционально заряженных и насыщенных персонификациях, примерами чему являются два приведенных ранее литературных примера из древнеегипетской и средневековой культуры. С другой стороны, сизигия может манифестироваться неперсонифицировано — как принцип "одушевления всего", "наделения конкретных предметов притягательной маной" и особого рода эрото-логической связью на высших уровнях, манифестирующихся в синхроничности Эроса-Самости.
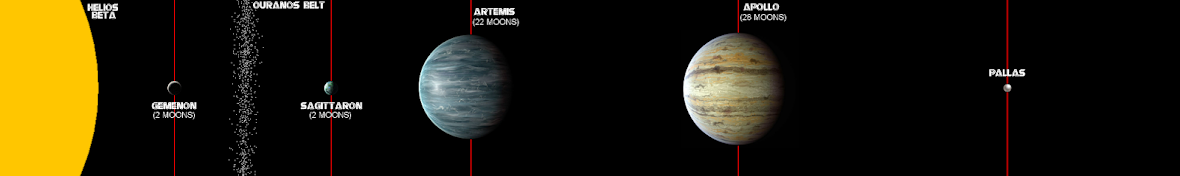




Комментариев нет:
Отправить комментарий