Как можно классифицировать различные оккультные школы и направления? Вопрос, на самом деле, далеко не столь прост, как кажется, и в своих исследованиях мне приходилось сталкиваться с самыми разными системами классификации.
Однако что, если классифицировать различные эзотерические дискурсы с точки зрения преобладающих планетарных архетипов?
Для начала давайте порассуждаем о том, что есть планетарные архетипы. Лаконичнее всех на этот счет выразился культовый писатель Виктор Пелевин: «Когда мы деремся, мы служим Марсу, когда занимаемся сексом — Венере». Фактически, в этой фразе Пелевин прекрасно показал, что вся наша жизнь и все наши действия находятся в русле того или иного планетарного архетипа.
Забвение архетипической составляющей наших обычных потребностей привело к тому, что жизнь человека стала выхолощенной, лишённой сакрального измерения — как писал Юнг: «Боги стали болезнями». Именно этот пробел восполняет Джеймс Хиллман, провозглашая идеал политеистической психологии, которая возвращает каждое действие, каждое движение души к её архетипическому основанию.
Однако в цитате Пелевина есть свой недостаток, поскольку она может быть понята излишне буквально, то есть так, что значение архетипа будет редуцировано исключительно к конкретному действию. Тогда Марс будет только дракой, а Венера — только сексом. При таком подходе мы просто увеличиваем число сущностей сверх необходимого, редуцируя архетипическое.
Некоторым решением может быть рассмотрение планетарных архетипов в качестве дискурсов. То есть не только и не столько суть архетипов связана с конкретными действиями, но прежде всего — архетип — это то, что определяет наш язык, наши речевые, языковые практики. Присутствие архетипической доминанты можно вычислить прежде всего по тем речевым стратегиям, которые мы наблюдаем, по той системе координат, системе смыслов, в которой конкретный субъект или конкретная группа структурирует свою речь.
Дискурс — одно из самых сложноуловимых понятий, и вычленить различные дискурсивные практики не так-то просто. С моей точки зрения, используя архетипические метафоры (в данном случае из астрологии), мы можем существенно упростить эту задачу, поскольку каждое божество-планета — это одновременно Образ и Концепция, при этом образ-символ первичен по отношению к концепции и позволяет интуитивно сопоставить самые разные и, на первый взгляд, не связанные друг с другом модели, идеи и стратегии.
Далее я попробую рассмотреть несколько «планетарных» символов непосредственно в применении к эзотерическому дискурсу. Польза такого рода интеллектуальной игры может быть достаточно серьезной. Во-первых, мы неизмеримо глубже осмысляем сам архетип. А во-вторых, высвобождаемся из-под его доминирования, осмысляя его как одну из семантических стратегий.
Итак, давайте рассмотрим наиболее известные эзотерические модели через призму семи планет. Однако прежде, чем переходить к рассмотрению конкретных архетипов, следует обозначить, что каждый из архетипов может проявляться на самых разных уровнях — от самого низкого до самого высокого.
Кого мы могли бы отнести к сатурническому дискурсу? Прежде всего, это те эзотерические школы, которые так или иначе происходят от восточного направления христианского гностицизма. Сатурнический дискурс сосредоточен на идее трагичности бытия, скорби, печали, оставленности и покинутости. Метафора сатурнического дискурса — спасение, освобождение, искупление. В «сатурнических» дискурсах мы можем чувствовать особого рода дух тяжести, печали об обреченности на бесприютную земную юдоль. Идея скорби и тяжести, от которой нужно освободиться, — это центральная метафора сатурнического дискурса, условие его понимания. Здесь можно вспомнить слегка ироничного Графа Габалиса, который в своем трактате писал, что влияние Сатурна обязательно для занятия оккультизмом. Уточним — оккультизмом эпохи Графа Габалиса. Разговор Сатурна — это разговор о беспомощности перед слепыми силами бытия, проживании мировой скорби, принятии тяжести жизни.
Следует обратить внимание, что изнутри каждого дискурса другие дискурсы воспринимаются как заблуждения — в лучшем случае как результат незнания реальной природы вещей, в худшем — как злостные ереси. Например, с точки зрения сатурнического дискурса, другие способы структурирования языка воспринимаются как своего рода трусливое бегство от осознания тяжелой и жестокой реальности. Любовь Венеры, Власть Юпитера или Война Марса — с точки зрения Сатурна это не более чем нелепые защиты от реальной картины бытия, представляющей собой тлен и распад.
Другим важным свойством сатурнического дискурса является его крайний консерватизм и догматичность. Любимая метафора Сатурна — тяжесть — причем она может осмысляться как в негативном — тяжесть бытия, тяжелый крест меланхолии, так и в позитивном — солидность, обстоятельность, фундаментальность — ключе.
Мифологема Сатурна — это представление о "золотом веке" в прошлом. Эта мифологема может проецироваться на что угодно — начиная от недавнего советского прошлого (особенно теми сатурнианцами, кто там не жил) до фантазийных представлений о цивилизациях Атлантиды и Лемурии. Раньше было лучше — категорический императив сатурнического дискурса, который не может быть подвергнут сомнению. Ядро мифологемы Сатурна объясняет нам это — ведь время власти Сатурна — это далекое прошлое, времена Оно, завершение которых знаменуется свержением и оскоплением Сатурна Юпитером. Ценность в системе Сатурна — это серьезность и строгость следования традиционной модели.
Разумеется, самым ярким примером сатурнического дискурса в эзотеризме является традиционализм Рене Генона. В свое время, изучая Генона, я был поражен его словами, что идеальная цель для него — это нечто вроде сна без сновидений, даже «райские модусы» недостаточны — ведь в них всё равно остается этот раздражающий аспект бытия.
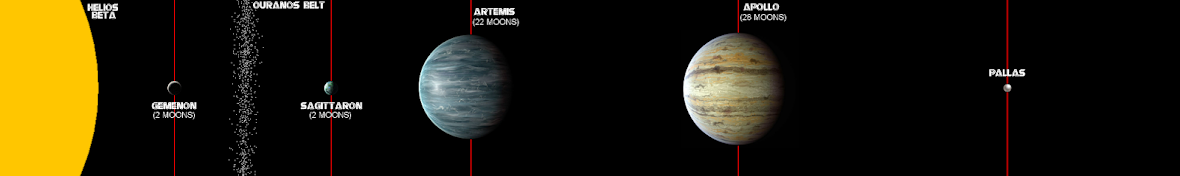




Комментариев нет:
Отправить комментарий